Что моложе - новая новелла или молодая проза?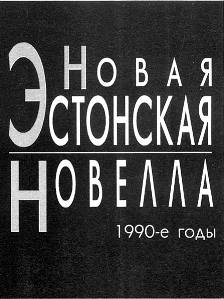 Недавно в издательстве "Александра" вышел сборник "Новая эстонская
новелла. 1990-е годы".
Недавно в издательстве "Александра" вышел сборник "Новая эстонская
новелла. 1990-е годы". Листая новый сборник, конечно, трудно не вспомнить крупнейший прецедент такого рода, которому - трудно поверить - уже минуло двадцать лет, "Эстонскую молодую прозу" 1978 года. Из 11 представленных там авторов, большинство из которых писательства не бросили, в "Новой эстонской новелле" напечатались двое - Арво Валтон и Мати Унт. А кроме них появились уже знакомые русскому читателю, но тем не менее еще "свежие" имена: Майму Берг, Эмиль Тоде, Тийа Тоомет, Март Кивастик и другие. Чтобы не обрекать читателя на нудный сравнительный анализ, позволю себе привести по две небольшие цитаты из каждого сборника (которые раскрывала наугад). "Ты устал, дорогой?" - тут же заботливо спросила его Лиз. "Нет, я смотрю на тебя и думаю, что все то время, пока тебя не было, я каждый день ждал, пока ты придешь". "А может быть - ты не все время ждал?" - подозрительно спросила Лиз. (Тоомас Винт, "Приход женщины". Эстонская молодая проза, Таллинн, 1978.) Ах да, я тоже, конечно, проповедовал СВОБОДНУЮ ЛЮБОВЬ и всеобщее братство, новый, лучший мир, но я никогда не думал, что этот лучший мир так близко меня коснется, что он придет без предупреждения, тайком, ночью, прижав палец к губам, как вор. Мати Унт, "Голый берег". Там же. - Я никогда на больших делах не попадался, все это были мелкие заварушки, за которые они меня брали. Хочешь знать, что я на самом деле натворил? Если я расскажу, так тебя надо вовсе пристукнуть. Он снова ухмыльнулся. - Да, - ответила я. - Я так и подумал. Такая вот ты и есть, на всю катушку играешь. Втихую тебя в лесочке, наверное, не изнасиловать, тебя точно надо прикончить. (Ээва Парк, "Случай". Новая эстонская новелла, Таллинн, 1999.) Потом вдруг резко стемнело, и началась зима. А на следующий день я увидела тебя. Голос у тебя уже был простужен, а в глазах уже стояла небесная бездна, в которой исчез последний свет и где зажглась первая звездочка. Ты спросил, можно ли остаться. Я сказала, что мне все равно. Ты велел мне говорить, вот я и говорю. Ни о чем, просто для того, чтобы перетерпеть зиму; ни о чем, просто чтобы не замерзнуть, чтоб кровь не остановилась в жилах, чтобы время не остановилось, потому что сейчас любой час - это Час с большой буквы и в любой момент мы должны быть готовы. Эмиль Тоде, "Кости холода". Там же. * * * Разумеется, такой способ сравнения не самый точный, но даже по этим отрывкам видно, что, с одной стороны, тональность эстонской прозы в 90-е годы сделалась заметно жестче, с другой же - характерная эстонская (может быть, даже шире - угро-финская, еще шире - северная) рефлексия течет, как река, все дальше и уже куда дольше, чем двадцать лет. Перефразируя цитату из повести Мати Унта, можно сказать, что время СВОБОДНОЙ ЛЮБВИ пришло, новый (а лучший ли - это дело вкуса) мир на дворе, литература, как кажется многим, перестала концентрировать все, что можно сказать иначе - хорошо это или плохо? И что значит - перестала, если она по определению эзопов язык? Круг тем в новеллах нового сборника самый разнообразный: это и исторические события ("Князь" Яана Кросса и "Крест власти" Матса Траата), и картинки детства ("Подружка" Марта Кивастика, "Дама рококо" Майму Берг, "День рождения Ханны" Тийи Тоомет - впрочем, все это не просто картинки, а скорее история страны, подсмотренная во дворе или в детской), и проза без особого сюжета, близкая к "потоку сознания" ("Содомит" Эне Михкельсон, "Кости холода" Эмиля Тоде). И все равно возникает навязчивое ощущение, что все об одном и том же, почти каждый рассказ - более или менее удачная попытка обдумать, принять перемену, ломку времени, хоть на миг почувствовать себя уютно в довольно суровом, чтоб не сказать - враждебном окружении. Там, где в центре повествования - лагерь или война, все понятно. Хотя философ и чуть ли не пацифист адмирал Колчак в "Кресте власти" мне кажется не вполне убедительным, так же, как и князь Пинский с безупречными манерами из новеллы "Князь", оказавшийся на поверку, извините, полной свиньей. О "Князе" хотелось бы сказать особо. Это пародия на портрет русского аристократа, и пародия, прямо скажем, не слишком добрая. Не так уж важно, существовал ли Пинский на самом деле и встречался ли с ним наш уважаемый мэтр Яан Кросс. Поскольку рассказ ведется от лица героя, который не писатель и мыслит непредвзято, итог получается один, хотел того автор или нет - антиэстетика: кто сладко поет, тот и есть самый главный злодей, смотрите на нынешних дворян и т.д. ... Впрочем, читайте новеллу, которая написана и переведена (Светланом Семененко) очень недурно. Но мирная жизнь эстонца 90-х годов тоже не дышит покоем (или этот покой - провинциальная скука и печаль, печаль в глазах провинциалки, как в новелле "Провинциалка" Михкеля Мутта, где герой в гостях у невесты чувствует себя явно не в своей тарелке). Пример тому - "Случай" Ээвы Парк, уже цитированный выше, героиня которого терпит изощренную психологическую пытку - похуже всякого изнасилования - от подвозящего ее водителя, бывшего уголовника. Женщина навещала в деревне любимого мужа, но и любовь эта какая-то странная, словно она порабощена и рада бы его не любить. Кстати, в чистом виде рассказа о любви в сборнике нет ни одного. Что тоже, вероятно, свидетельство времени - как-то не до того (вспомните, сколько любовных сюжетов в "Эстонской молодой прозе"), зато постмодернистских хождений вокруг да около - множество. Любовь не покинула героев сборника, она претерпела мутацию и обращается то на вымышленного собеседника, то на ребенка, то на козу... С козой не так просто: в новелле Юри Эльвеста "Изъявление любви" герой спешит к любимой женщине, больше - к своей новой жизни, ради которой он совершил волевой поступок - оставил жену. И не успевает, потому что ему приспичило непременно спасти животное. Дилемма - получить свою долю счастья ценой жертвы беспомощного существа или поддаться порыву и остаться ни с чем - не нова, а вот что есть большее изъявление любви - это еще вопрос... Есть в сборнике одна вещь, на которую трудно не обратить внимание, даже если она не понравится (а большинству не понравилась) - "Живот разболелся" Пеэтера Саутера. Предельно натуралистичное описание родов. Интересна не физиологическая откровенность, которой мы уже объелись, а глубокий психологический подтекст, чувства героя, у которого в жизни все перепуталось, который не живет со своей женой, принимает не своего ребенка, и единственное, что убедительно для него и, думаю, для читателя - любовь к родной дочери, вынужденной вместе с ними провести ночь в роддоме. Сказано намного больше, чем написано. Новелла блестяще переведена Наталией Калаус. Найдем в сборнике и некоторые по-своему экзотические явления, например, "Свадебное ложе" Юлле Каукси, написанное на юго-восточном эстонском диалекте и соответственно переведенное Нелли Абашиной языком, близким к народному. Это отрывок из большого романа "Ложе", будем надеяться, что нам и его удастся прочесть. Интересно, что выруский диалект (на котором, кстати, существуют прекрасные стихи) стал в последние 10-15 лет скорее языком молодых интеллектуалов. Что еще раз доказывает: литературе необходимо иносказание, даже когда "все можно"! Завершает сборник новелла Мати Унта "Текст и труп", написанная для конкурса криминального повествования, объявленного в прошлом году журналом "Looming". В ней соблюдены все условия, заданные конкурсом: детектив должен быть толстым и принадлежать к национальному меньшинству, действие должно быть связано с Looming (то есть надо думать, с творчеством), а убийцей должен оказаться... Но не буду портить читателю удовольствие. Нужно еще добавить, что в "Новой эстонской новелле", которая оформлена так же, как и все книги библиотеки журнала "Таллинн", на внутренней стороне обложки помещены фотографии как авторов, так и переводчиков, которые по праву делят с авторами воздаваемые почести. Переводчики все замечательные и давно нашему читателю известные: Эльвира Михайлова, Нелли Абашина, Светлан Семененко, Елена Позднякова, Татьяна Теппе... Кажется, еще ни разу не печатала свои переводы прозы в большом сборнике Марина Тервонен. Русское прочтение Тийны Тоомет удалось ей так тонко, возможно, потому, что Марина переводила и ее стихи. Только вот незадача: не удалось нам полюбоваться портретами Марта Кивастика и Каяра Прууля (автора подробного послесловия, рассказывающего о каждом из писателей). Вместо них красуются пустые рамки. Может, новый способ саморекламы?.. Ольга ЮРЬЕВА.
|