ПРО ФАЗЫ, СУПЕРЭМОЦИИ И АДЕКВАТНЫЕ РЕАКЦИИОдной из актуальнейших экономических тем этого года являются трудности нашей экономики. Если поначалу речь шла о стагнации, то сегодня большинство экспертов и даже политиков говорят о кризисе. Кто-то считает, что мы увязли довольно основательно и надолго, иные уже заметили признаки улучшения ситуации. Пресса пестрит всевозможными оценками и прогнозами, немало внимания этим темам уделяла и наша газета. Сегодня мы предлагаем читателям "сводный" опрос двух авторитетных экономистов - академика Михаила Лазаревича БРОНШТЕЙНВ и доктора экономических наук Валерия Федоровича ПАУЛЬМАНА.1. В чем, на ваш взгляд, основные причины наших экономических трудностей?
Экономическому кризису в Эстонии предшествовал финансовый. Мы часто слышим термин "перегрев экономики". "Перегрев" экономики есть не что иное, как возникновение искусственного спроса на фиктивный капитал. На фондовой бирже до осени 1997 года царил суперэнтузиазм, а акции считались наиболее перспективными для инвестирования. Цены на них с конца 1996 года выросли в несколько раз, люди делали на этом большие состояния. Но что такое курс акций? Это капитализированный дивиденд. А реальная прибыльность дивидендов двух-трехкратной за год не бывает. Следовательно, рынок ценных бумаг был чрезмерно раздут и оторван от реального положения в экономике страны. Рано или поздно должна была произойти развязка, и она произошла. Причем обвал фондового рынка, как это часто бывает в таких случаях, привел к падению курсов на уровень более низкий, чем реальный: супероптимизм сменился суперпессимизмом. После обвала на бирже большинство игроков потеряли огромные деньги. Последовала цепочка банкротств, которые неизбежно отразились и на реальном секторе. А тут и российский кризис подоспел. Как бы ни шумели наши некоторые политики об обратном, Эстония все-таки в значительной степени зависит от восточного рынка, и резкое сокращение экспорта в страны СНГ больно ударило по эстонской экономике. Причем рынков сбыта лишились те отрасли, которые неконкурентоспособны на Западе и не могут мгновенно переориентироваться, скажем, на Европу. Правда, в некоторой степени снижение экспорта было компенсировано стремительным возрастанием транзита через Эстонию российских нефтепродуктов.
После биржевого кризиса, разразившегося в конце 1997 г., темпы роста ВВП стали снижаться, а в 1999 г. и вовсе стали отрицательными. Условно третью фазу можно назвать кризисной. Сегодня большинство экономистов и политиков, оценивая экономическую ситуацию в стране, говорят о кризисе. Я же все-таки полагаю, что кризис - явление более глубокое, нежели то, что происходит у нас сегодня, и правомернее говорить о депрессии или спаде. Кризис у нас был в начале девяностых годов, когда мы жили по карточкам, когда один за другим закрывались предприятия и тысячи людей вынуждены были искать себе новую работу и, как правило, в корне изменять свой образ жизни, когда общество в целом было крайне нестабильным. Эстония вошла в третью фазу развития со слабой экономикой. Достаточно сказать, что объем промышленного производства в 1997 году от уровня 1991 года составил всего 61%. В сельском хозяйстве ситуация еще хуже: поголовье коров уменьшилось за тот же период в два раза, свиней - в 3 раза, посевные площади - на 23%. Разумеется, в значительной степени эти потери компенсировались бурным развитием иностранного туризма, торговли, банковского сектора, обслуживанием транзитных грузопотоков. Тем не менее, если бы мы вошли в третью фазу с более высоким уровнем развития, последствия осложнений в экономике были бы менее ощутимыми. К примеру, Люксембург, который имеет население в 3,4 раза меньше Эстонии, но объем ВВП в 3 раза больше, переносил бы депрессию совершенно иначе - значительно легче. Чтобы понять причины депрессивных (или кризисных) явлений в экономике Эстонии, необходимо учесть следующие факторы. Первый - это малые размеры эстонской экономики и, как следствие, огромная зависимость от внешнего рынка. Доля экспорта в нашем ВВП составляет 80%, импорта - 89%. У больших экономик (США, Япония и т.д.) эти показатели колеблются в пределах 10-15%. Второй очень важный фактор - превышение платежеспособного спроса над объемом производства товаров и услуг. В 1998 году Эстония потребила товаров и услуг на 81,7 млрд. крон, а произвела - на 73,2 млрд. Поскольку страна живет в долг, третьим весьма важным фактором является колоссальное значение для экономики банковского сектора, через который идет накачка средств извне, что обеспечивает превышение текущего потребления над производством на 11,5%. Совокупность вышеперечисленных факторов оказала свое влияние на появление в эстонской экономике кризисных явлений. Осенью 1997 г. начались трудности на мировом финансовом рынке, которые не только ударили по нашей фондовой бирже, но и привели к удорожанию кредитов, из-за чего Эстонии приходится платить существенно более высокие проценты по внешним займам. Плюс к тому основательно ударил по эстонской экономике российский кризис, который вызвал резкое падение производства в целом ряде отраслей промышленности, и особенно - в пищевой. Чтобы охватить весь спектр причин депрессии, необходимо учесть еще и внутренние факторы. Прежде всего, это узость внутреннего рынка, которая вытекает из малочисленности населения Эстонии, помноженного на его низкую покупательную способность. Свыше половины жителей страны тратят на каждого члена семьи менее 1200 крон в месяц. В сумме с иными, уже названными, факторами это и определяет высокую зависимость экономики от экспорта. Вместе с тем, у Эстонии еще слабая экспортная база, мы только ищем свои ниши на мировом рынке. А поиск их осложняет все возрастающий моральный и физический износ технологического оборудования, что очень страшно. Если ситуация не улучшится, в ближайшие годы может разразиться настоящий кризис. Только представьте себе, к чему приведет выход из строя нарвских электростанций, которые созданы на базе старых советских технологий и давно требуют серьезной модернизации? И еще. На сегодняшний день в Эстонии очень высоки степень криминализированности экономики и коррумпированность госаппарата. По самым скромным оценкам, доля теневой экономики по отношению к ВВП составляет 20%. А зарубежные инвесторы, приезжая в Эстонию, сталкиваются со взяточничеством наших чиновников, что зачастую отпугивает их от страны. Все это снижает эффективность нашей экономики. 2. Адекватно ли реагирует на кризис государство? На какие отрасли экономики могла бы опереться Эстония, чтобы выйти из кризиса? Михаил БРОНШТЕЙН: В последние десятилетия все развитые страны неизменно обращаются к рецептам Кейнса. В числе которых одним из основных элементов является снижение учетных ставок. Причем в США в прошлом году понизили их до 3-4%, не дожидаясь наступления депрессии. Раз такая низкая учетная ставка, стало очень выгодно брать кредиты под инвестиции, потребительские кредиты. По Америке прокатился бум потребления. Особенным спросом пользовалось жилье, поскольку выплачивать кредит по таким низким процентам выгоднее, чем оплачивать аренду квартиры. Сегодня, предупреждая возможный "перегрев" экономики, американцы повысили учетную ставку. Наше государство особое. Банк Эстонии не выполняет тех функций, которые свойственны Федеральной резервной системе США или ЦБ европейских стран. БЭ только держит курс кроны и банкротит банки. И еще зарабатывает для себя приличные деньги. Поэтому в начале кризиса ставки по кредитам достигли 15%. И только в последнее время коммерческие банки сами снижают проценты, потому что видят, что их деньги при иных условиях недоступны большинству клиентов. Вот и получается, что в Эстонии капитализм пройденного этапа, в котором отсутствуют многие весьма важные регуляторы. Да и сама система валютного комитета сродни тому, что было в США к моменту наступления Великой депрессии. Но опять-таки, выходя из депрессии, американское государство вкладывало огромные средства в строительство дорог, заводов, поддерживало частные инвестиции. Ничего подобного у нас нет. Если говорить о сельском хозяйстве, то в Эстонии первого периода независимости основой его были частные хутора, однако существовала в то же время развитая система кооперативов или, как они назывались, товариществ. Существовали кооперативные банки, кредитовавшие под низкий процент, машинные товарищества, объединявшие технику хуторян, практически все молочноперерабатывающие заводы принадлежали кооперированным крестьянам, большая часть экспортно-импортных операций с продовольствием тоже контролировалась сельскохозяйственными кооперативами. И все это поощряло государство. Ничего подобного сегодня нет, и у львиной доли хуторян не хватает сил ни на что иное, кроме как на натуральное хозяйство, обеспечивающее лишь собственные потребности. Правящая ныне коалиция, и в первую очередь реформисты, большие надежды возлагают на отмену подоходного налога с предприятий. Ожидается, что это привлечет в страну наплыв инвестиций из-за рубежа. Однако не совсем ясно, где они смогут найти себе применение. Прежние сферы вложений - банковский сектор и торговля - возможности быстрого роста исчерпали. В сельское хозяйство без госдотаций никто не пойдет. Если же говорить о промышленности, большая ее часть сидит на субподряде; инновации и конечный продукт где-то там, а здесь - использование дешевой рабочей силы в призводстве промежуточной продукции. Это неизбежный этап в развитии экономики, но есть серьезнейшая опасность погубить за это время уровень нашего образования и науки. Пока мы располагаем потенциалом для исследований в биотехнологии, лазерных технологий. В Эстонии, хоть и штучно, тем не менее производятся медицинские лазеры на экспорт. В свое время я и ряд моих коллег активно выступали с идеей создания технополиса в Тарту. Технополисы получили большое распространение в развитых странах. И опять-таки, например, в США или в Швеции их создание не обходится без серьезнейшей поддержки государственных структур. Ведь наукоемкие отрасли экономики - это залог будущего процветания любой страны, залог ее высочайшей конкурентоспособности на мировом рынке. Вот о чем необходимо думать Эстонии уже сегодня. Если вернуться к идеям реформистов, я бы на их месте не освобождал от подоходного налога всю прибыль: зачем снимать налог с того, что просто проедается или вывозится за рубеж? Нужно освободить от налога только инвестиции и стимулировать тем самым капиталовложения в экономику. Что позволит увеличить количество рабочих мест, поднять уровень зарплат и в конечном итоге повысить потребительский спрос. Валерий ПАУЛЬМАН:Государство, на мой взгляд, в первую очередь должно бы было всемерно поощрять рост внутреннего спроса. Через активную социальную политику, государственные инвестиции. Стимулирование внутреннего потребления - это мощный резерв оживления экономики, котрый пока что в Эстонии используется явно слабо. Подстегнуть экономику можно еще, активно поддерживая экспортеров. У Эстонии кроме "золотой жилы" транзита есть неплохие возможности для наращивания экспорта. Если говорить о промышленности, одной из самых перспективных экспортных отраслей Эстонии является деревообрабатывающая, поскольку в европейских странах большой дефицит данной продукции. Неплохие возможности у судоремонтной отрасли. Имеет хорошие перспективы силламяэский "Силмет". Традиционно большой вес в нашем экспорте (около 25%) еще долго будут составлять всевозможные субподрядные работы. Третья необходимая составляющая - толковая, взвешенная политика по привлечению внешних инвестиций. Как известно, приток капиталов из-за рубежа в прошлом году спас нашу экономику от серьезнейших потрясений. Одно только банкротство крупнейших банков могло бы привести к серьезнейшим последствиям. Правда, те же самые крупнейшие банки теперь в руках иностранного капитала. Зато теперь они обладают колоссальными возможностями для финансирования инвестиций, которые ранее им не были подвластны в силу ограниченности внутренних финансовых ресурсов. И консолидация банковского рынка, его очевидная стабилизация могут посодействовать ускорению выхода Эстонии из депрессии. Одна из самых актуальных тем последних лет - ожидаемое вступление Эстонии в Европейский Союз. Учитывая, насколько мала наша страна, сколь трудно ей в автономном плавании, я полагаю, что решение присоединиться к ЕС - единственно верное как с политической, так и с экономической точек зрения. Но еще до вступления в союз государству необходимо проделать огромную работу. Например, Евросоюз крайне заинтересован в нашей стране как связующем звене между Европой и восточными странами. Речь идет не только о транспортных каналах, но и о роли Эстонии в качестве территории для производства или сборки европейскими фирмами товаров, экспортируемых далее на восток. Для того, чтобы эти инвестиции к нам пришли, необходимо не только создавать привлекательные условия для зарубежных предпринимателей, но и заботиться о соответствующем имидже страны, о чем я уже говорил немного ранее. 3. Когда можно ожидать улучшения экономической ситуации в стране? Михаил БРОНШТЕЙН: Судя по всему, к началу 2000 года произойдет определенное оживление экономики. Некоторые признаки этого видны уже сегодня; увеличивается, к примеру, розничный оборот. Однако для устойчивого роста экономики необходимы серьезные инвестиции и развитие реальных секторов, причем на как можно более высоком технологическом уровне. Валерий ПАУЛЬМАН: Я все-таки сторонник того видения процесса, что быстрого улучшения не будет. Экономика - штука инертная. Поэтому я не исключаю, что этот год мы закончим с минусом... Есть такой показатель, основываясь на котором можно судить о возможном темпе роста экономики. Это потребление электроэнергии. Так вот в первом полугодии спад составил 6%. А если первое полугодие пройдено с таким минусом, то какой же должен быть плюс, чтобы выйти хотя бы на ноль к концу года? В любом случае, думаю, мы войдем в двадцать первый век не на подъеме. Эстония будет завершать третью, депрессионную, фазу в своем развитии. 4. В той или иной степени кризис затронул все регионы мира. За исключением Северной Америки. Возможно ли, чтобы экономика США, процветающая уже восемь лет, так и не познала потрясений? Михаил БРОНШТЕЙН: Любой кризис - вещь не только неизбежная, но и необходимая. Потому что очищает экономику от "шлаков", избавляет от перекосов. Именно в стадии депрессии восстанавливаются здравые пропорции в экономике, приходит в уравновешенное состояние рынок ценных бумаг и т.д. Что касается США, то там уже сейчас видны некоторые серьезные проблемы. Взять, к примеру, рекордно высокий, раздутый уровень индекса Доу-Джонса. На фондовой бирже зарабатывались приличные состояния. Как и в Эстонии накануне обвала осенью 1997 года. В то же время неверно было бы чрезмерно прямолинейно сравнивать экономику огромной, во многом самодостаточной высокоразвитой сверхдержавы и маленькой постсоветской страны. Депрессия безусловно коснется и США, но там наверняка сумеют максимально смягчить ее последствия. А если нет... Учитывая, что Америка - крупнейший в мире импортер, существенное снижение потребления в этой стране очень серьезно отразится на всем мировом хозяйстве. Например, крупнейшие поставщики автомобилей на рынок США - Япония и страны ЕС. Падение общего спроса в Америке немедленно приведет к сокращению продаж этих (как и других импортных) автомобилей, а проблемы японских и европейских автомобильных компаний по цепочке затронут массу фирм, работающих в ряде других, смежных отраслей. Естественно предположить, что европейские трудности передадутся и нам. Валерий ПАУЛЬМАН: Я не специалист по США, но могу сказать, что в американской экономике есть определенные проблемы. Взять хотя бы рекордный за всю историю торговый дефицит, превысивший в прошлом году 280 млрд. долларов. В то же время США - особая страна: для оценки ситуации в экономике мало располагать одними только данными о ВВП, необходимо иметь представление о валовом национальном продукте(ВНП), включающем в себя не только цифры по производству внутри страны, но и о работе колоссального американского капитала вне США. Точными цифрами по ВНП, думаю, не располагает даже ЦРУ, поскольку объять весь мир даже сегодня невозможно. Значит, и более-менее верную оценку составить крайне затруднительно. В то же время я полагаю, было бы верным предположить, что в США наконец-то научились управлять экономикой настолько высококлассно, что кризис им не грозит. Американцы собрали у себя прекрасных специалистов со всего мира, и те, похоже, умеют правильно оценивать факторы развития экономики, вовремя предугадывают те или иные тенденции и с ювелирной точностью оперируют имеющимся в их распоряжении богатым инструментарием механизмов государственного регулирования. Ответы ученых переварил и рассортировал Андрей ДЕМЕНКОВ. Фото Александра ПРИСТАЛОВА.
|
 Михаил БРОНШТЕЙН: Экономический кризис в Эстонии
является частью общемирового кризиса. Который, как известно,
начался летом 1997 года в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии и распространился затем почти по всему свету. К примеру,
резкое снижение мировых цен на нефть и целый ряд прочих
сырьевых товаров - прямое следствие вызванного кризисом
повсеместного падения спроса.
Михаил БРОНШТЕЙН: Экономический кризис в Эстонии
является частью общемирового кризиса. Который, как известно,
начался летом 1997 года в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии и распространился затем почти по всему свету. К примеру,
резкое снижение мировых цен на нефть и целый ряд прочих
сырьевых товаров - прямое следствие вызванного кризисом
повсеместного падения спроса. 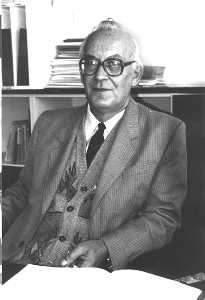 Валерий ПАУЛЬМАН: Начну с того, что экономика Эстонии с
момента восстановления независимости прошла через три фазы
развития. Первую фазу (конец 1991 г. - начало 1995 г.) отличали
большое падение валового внутреннего продукта (ВВП)- на 23%,
переориентация экономики на Запад, лавинообразный процесс
приватизации, который к концу 1995 года был в основном
завершен, а также серьезнейшая структурно-отраслевая
перестройка хозяйства. После того, как к 1995 году процесс
реструктуризации в целом завершился, экономика
стабилизировалась, и начался подъем. Который продолжался до
1998 года и дал прирост ВВП в 20%; только в 1997 г. - 11%.
Валерий ПАУЛЬМАН: Начну с того, что экономика Эстонии с
момента восстановления независимости прошла через три фазы
развития. Первую фазу (конец 1991 г. - начало 1995 г.) отличали
большое падение валового внутреннего продукта (ВВП)- на 23%,
переориентация экономики на Запад, лавинообразный процесс
приватизации, который к концу 1995 года был в основном
завершен, а также серьезнейшая структурно-отраслевая
перестройка хозяйства. После того, как к 1995 году процесс
реструктуризации в целом завершился, экономика
стабилизировалась, и начался подъем. Который продолжался до
1998 года и дал прирост ВВП в 20%; только в 1997 г. - 11%.